

В рамках советского мышления, на протяжении семи десятилетий определявшего судьбы культуры
в нашей стране, задаваться вопросом о жизни традиций русского импрессионизма было бы занятием
в большой мере сомнительным. Хотя, на первый взгляд, почему? Какую опасность для власти могла
представлять живопись Архипова, Грабаря, Юона, Сергея Герасимова, Стожарова или молодых
братьев Ткачевых? Ведь среди разного рода начинаний, манифестаций искусства XX века
импрессионизм выглядит прямо-таки безобиднейшим. Не было в нем никакой особой сюжетной
конфликтности, никакого протестного пафоса и уж, тем паче, гражданского вызова. Он никого
не шокировал разрывом с натурой, скорее ласкал души зрителей, в том числе даже самых
неискушенных, естественностью и лиризмом переживаний, тягой к природе. Дело, однако,
в том, что у себя на родине, в СССР, такое искусство подвергалось последовательной
дискриминации.
Среди его хулителей и гонителей приходится вспоминать не только о чиновниках-винтиках
государственного идеологического механизма, проводивших в жизнь спускаемую с таинственных
верхов "генеральную линию". Опыт импрессионизма "изживали" блестяще талантливые творцы
революционного авангарда. Его отрицали весьма даровитые инициаторы "молодежного"
ретроспективизма 1970-х годов. Он подвергался жестокой критике и в пору становления
"социалистического реализма" (т.е. в 1920-1930-е годы), и еще более угрожающе, даже
яростно на рубеже 1940-1950-х, хотя с несколько разной мотивировкой. Словом, "импрессионизм"
в русско-советском искусстве хоронили едва ли не каждые десять лет, а он почти всякий раз
возобновлялся, обретая, пусть и не слишком громкую, актуальность. К загадке его
жизнеспособности и хотелось бы привлечь внимание.
Ключ проблемы в том, что, с точки зрения практики и теории большевизма, "ленинского
учения о двух культурах", искусство Союза русских художников (СРХ) не могло и не должно
было породить традицию в условиях "социалистического строительства". Тотально политизируя
"революционную" картину мира, марксизм-ленинизм задается вопросом: "от какого наследства
мы отказываемся?" Исходя из этого, статус традиции могло получить только "прогрессивное"
художественное течение - в той мере, в какой оно отвечало "классовым" интересам победившего
пролетариата. Интересы же эти большевистские идеологи понимали строго определенным образом.
Для власти "на фронте искусства" в СССР уже в 1920-е годы решающим становится критерий
"тематизма". Отсюда и утверждение в советской критике странноватого по сути термина
"тематическая картина".
Не существует, казалось бы, творческого акта вне более или менее ощущаемой смысловой,
тематической задачи. Любое произведение искусства сталкивает читателя-зрителя с вопросом:
о чем, собственно, ведет речь художник, какое послание стремится нам сообщить? Наряду с
этим в текстах советских критиков нередко встречаются рассуждения: бывает, мол, Тема и
"тема", подобно тому как искусство может отражать Правду жизни ("Большую истину нашей
социалистической действительности") либо же может смаковать убогое правдоподобие заурядного,
"нетипичного" факта -изданный случай в художественных кругах даже ходило словцо "правденка"...
Тематические каноны советского искусства зарождаются вместе с "ленинским планом
монументальной пропаганды" и полностью оформляются в практике тематических выставок
АХРР. Они известны: "историко-революционная тема"; батальная картина, повествующая о
победном пути рабоче-крестьянской Красной Армии; "тема труда" с разработкой
индустриально-урбанистических мотивов, которые символизируют "социалистическую реконструкцию"
России "лапотной", завоевания сталинских пятилеток. Плюс к тому сюжеты "нового советского
быта". "Образ нового человека", в особенности портретирование "признанных партией и народом"
героев революционной борьбы и социалистического строительства, венчаемое, конечно же, "работой
над образом вождя". Соответственно строится иерархия жанров изобразительного искусства, среди
которых вскоре обозначаются ведущие, официально поощряемые (о них говорится как о "социальном
заказе"), и не просто периферийные, но официально пренебрегаемые, даже гонимые.
От иерархии, жанров в понимании старого европейского академизма эта новейшая отличалась, пожалуй,
более всего именно воинствующей нетерпимостью в отношении периферийных жанровых форм. В первой
половине 1930-х годов их "каноническая" соподчиненность закрепляется догматом партийности
художественного творчества в СССР. Отпадавшие от руководящей линии партии лишали себя не
только публичного творческого статуса, поскольку требование партийности искусства было
записано в уставе каждого из новосозданных "единых творческих союзов", но как бы и
гражданского статуса вообще.
Такого "горе-художника" уже можно было и следовало заклеймить как врага. Отношение же к
врагу в сталинском государстве хорошо известно. Вот что писала главная газета страны
"Правда" в передовой статье "Свобода слова и печати": "...враг наш... не получит ни
клочка бумаги, не перешагнет порога типографии, чтобы осуществить свой подлый замысел.
Он не получит ни зала, ни комнаты, ни угла для того, чтобы внести устными словами отраву"
В такой общественной атмосфере периферийные жанры творческой практики - натюрморт, пейзаж -
изначально кажутся подозрительными. Если, конечно, они явным образом не служат пропаганде
системы, как, например, какой-нибудь полный солнца "индустриальный пейзаж" очередной ГЭС
или масштабная композиция с продуктами советской консервной промышленности.
Отнюдь не должно удивлять, когда Александр Древин, преследуемый долгие годы "партийной
критикой" в качестве закоренелого формалиста, в своем покаянном слове на собрании МОССХ
вспоминает: куда, дескать, вы могли "пойти с пейзажем" во времена засилья РАПХ (иными
словами, где могли его выставить, кому продать). В подтверждение приведем тираду автора
журнала "Искусство в массы" Д.Актова по поводу заводского пейзажа А.В.Куприна: "При слове
завод вам, конечно, приходит на ум соцсоревнование, ударничество, встречный промфин-план,
рабочее изобретательство, грандиозное строптс'льстно, прорывы, борьба с вредительством.
Здесь этого нет... Кго (живописца. - A.M.) интересует, как вечерний сумеречный свет
поглощает "практические" очертания заводских строений... Еще несколько минут - и мрак
покроет завод, от этого становится... грустно, и художнику нравится эта грусть. Напрашивается
определенный вывод: так же как непонятны и чужды ему паши заводы, также непонятны и чужды
ему пятилетка, а за ней и веч- наше соцстроителытво".
В ситуации, когда подобное состояние умов отнюдь не казалось противоестественным, когда
отношения между художником и обществом, художником и критиком, художником и художником
зачастую определяло демагогическое политиканство, наследие СРХ не имело шансов на
официальное признание. "Союз"-то ведь культивировал прежде всего пейзаж (хотя, напомним,
этим его жанровый диапазон не ограничивался), и к тому же по преимуществу в плане некой
лирически-созерцательной "натурфилософии", без всяких примет победительной советской
действительности.
Миросозерцание такого искусства в основном было антипатично всем, кто стоял на позициях
революционаризма, волевой переделки мира и человека. Л эти устремления внутренне роднили,
напомню, философию "левых", самосознание авангарда, теорию и практику "социалистического
реализма", сколь бы они ни расходились в их конкретных рекомендациях переделки старого
мира согласно "проекту" художника-революционера.
Заметим следующее. Автор "пролетарского" художественного журнала Д.Актов обрушился на
произведение, где бывший неопримитивист-бубнововалетовец А.В.Куприн по живописной манере
оказывается как раз ближе всего к традиции импрессионизма. Либо Сезанна, но там, где он
изначально родствен импрессионистам, а не в конце пути, когда предвосхищает кубизм. В
этом своем обличье Куприн рубежа 1920-1930-х годов позволяет обратить внимание на связь
проблематики жанра и стилевого течения, пейзажа и импрессионистической поэтики, примерно
в том их соотношении, какое свойственно для искусства СРХ.
Тов. Актов прямо указывает на феномен наиболее сомнительный, даже вызывающий откровенные
подозрения, в советском контексте. Таковым оказывается именно пейзаж импрессионистического
типа. Ведь купринский холст с его вниманием к "сумеркам", целостности живописной атмосферы,
где сплавлены "очертания заводских строений" и окружающее пространство тонет в густом
вечернем воздухе, - вещь, принципиально восходящая к эстетике "союзовского" импрессионизма.
Остается еще раз указать, что эта эстетика будет неприемлема для официоза и в 1940-1950-е
годы, также как она отвергалась в довоенный период. А подлинные сложность и драматизм
такой социально-художественной ситуации в том, что гонимая "сверху" по идеологическим
мотивам традиция русского импрессионизма, вопреки всему, едва не подпольно продолжала
свое развитие в недрах творческой практики на протяжении указанных десятилетий.
Официальная советская критика после войны в ряде аспектов обостряет борьбу с традицией
импрессионизма в пейзаже. С одной стороны, она предлагает собственную позитивную программу
пейзажного творчества, глубоко чуждую духу "союзовского" искусства: "Советские пейзажисты
должны создать глубоко волнующие картины, дающие яркий образ нового, советского пейзажа,
показать природу, преобразованную трудом советского человека и служащую ему, показать
бескрайние поля, новую колхозную деревню, выросшие за годы сталинских пятилеток новые
города, промышленные гиганты, величественные новостройки, на которых сейчас кипит
вдохновенная работа, мощные гидростанции, обуздавшие реки".
С другой - в продолжение практики эпохи Большого террора художественные журналы методично
выдают проскрипционные списки уличаемых в "формализме" (здесь подлинное созвездие мастеров:
А.Дейнека, П.Кончаловский, П.Корин, П.Кузнецов, Г.Рублев, М.Сарьян, В.Фаворский, Р.Фальк,
А.Фонвизин и так далее). При этом специально выделяют тех, кто повинен в грехах
"импрессионизма": это С.Герасимов, А.Осмеркин, А.Пластов...
О последнем, рассматривая "Ужин тракториста", высказывают характерные сожаления:
"Предвечерняя тишина, разлившаяся по ниве, сковала и образы людей. Если бы справа не
был изображен еще не остывший от работы трактор, то зрителю представилась бы... картина
того, как работал потихоньку-полегоньку в поле пахарь со своей сохой, а теперь присел
отдохнуть и закусить"5. В следующем номере устами другого автора журнал продолжает:
"Пластов еще не осознал до конца, что "малая правда" отдельного частного факта - это
еще не та большая жизненная правда (вот они, Правда - правденка, о чем выше шла речь.
- A.M.), за которую мы боремся в искусстве социалистического реализма, - правда богатырских
дел и незаурядных характеров русских людей эпохи построения коммунизма".
Непременные для "партийной" критики упреки в архаизации образов, "вялости", дефиците
социального активизма сопутствуют восприятию предавангардной художественной традиции
начала XX века не только в пейзаже, живописи вообще, но и в скульптуре. Любопытно
сравнить с приводимыми выше суждениями оценку памятника Гоголю работы Николая Андреева:
"Жизнь едва теплится в теле, рухнувшем на сиденье. Пластические формы фигуры утеряли здесь
всю свою жизненную энергию, слившись в смутную, расплывающуюся в своих очертаниях живописную
массу, не дающую силуэта"'. Хорошо известно: за такими сентенциями последовало перемещение
андреевской композиции в один из арбатских дворов и установка в створе бульвара рядом со
зданием Министерства обороны статуи Томского...
Как видим, критика рубежа 1940-1950-х годов весьма раздражает "живописность" - родимое
пятно импрессионизма в скульптуре. Критиков Куприна и Пластова она тревожит не в меньшей
мере. Откуда такая идиосинкразия к моменту, казалось бы, весьма вкусовому, формальному?
"Живописность" обыкновенно предполагает примат колорита - цветовой, тональной среды -
в пространстве создаваемой автором композиции над предметом, объектом. И первое, что
можно отметить по ходу данного рассуждения: такое свойство изобразительной поэтики не
вписывается в канон мастерства, возобладавший в советском искусстве к концу 1930-х годов.
С ликвидацией Вхутемаса-Вхутеина доминирующим положением в системе художественного
образования Института имени И.Е.Репина (ИЖСА) под руководством Исаака Бродского этот
канон определила традиция академизма с ее опорой на классическое рисование и требованием
картинной "законченности" изображения. Таким образом, "живописность" и нормы академизма
составили нечто вроде двух разных полюсов вкуса. Однако за "склонностью глаза" художественное
сознание времени склонно было усматривать нечто большее. Подобная антитеза толковалась и в
содержательном, ценностном плане.
В самом деле, "живописность" с ее милой сердцу знатока мягкостью форм, богатством оттенков
и переходов красок (а, на взгляд партийного цензора, расплывчатостью - смутностью -
изображения) противоречила пониманию "народности", вмененному теорией соцреализма.
Теория диктовала недвусмысленную, абсолютную "понятность" художественного образа, -
а что тут, собственно, нарисовано? - любому, кто остановит свой взгляд на картине.
"Понятность" и "простота" именно в этом элементарнейшем смысле - безоговорочные императивы
для официального искусства в сталинском СССР. Нарушителей подобных "табу" в самой же среде
художников-профессионалов начали с каким-то злорадным садизмом именовать "формалюгами".
И еще. "Живописность" оказывалась несовместима также с "партийностью" творчества. Ибо
она вуалировала иерархию элементов изображения, смазывала противоположность "главного"
и "второстепенного", и, стало быть, не давала возможности показать эту действительность
"в ее революционном развитии". Поскольку "идеал", "положительный пример" непременно
должны быть четко выявлены в их отличии от заурядности каждого дня.
Последний момент, оказавшийся крайне немаловажным в пору форсированного насаждения
национально-патриотического сознания. "Живописность", родившись некогда из практики
русского пленэрного этюда, завоевавшая редкую популярность в работах Левитана, Серова,
Коровина, столь тонко воспевшая русскую деревню, стала трактоваться политически подкованной
критикой рубежа 1940-1950-х годов как "космополитичный" феномен. Она якобы привнесена на
русскую почву как результат увлечения "иностранщиной" - французским импрессионизмом,
парижской школой начала XX века и, следовательно, как таковая, чужеродна и буржуазна.
Напомним в этой связи об усилиях по разоблачению мастеров ленинградского "Круга художников".
Этих приверженцев лирически-камерного живописания еще в середине 1930-х годов издевательски
третируют как "маркистов", тем самым ядовито противополагая их творчество началу "марксистскому"
и акцентируя их зависимость от "модного иностранца" Альбера Марке. Подобная политиканствующая
агрессивность усугубляется после войны, особенно по отношению к искусствоведам, подозреваемым
в недостатке лояльности к "генеральной линии" тогдашних идеологов от эстетики. Среди таковых
называли Н.Лунина, А.Эфроса, Я.Тугенд-хольда и даже И.Мацу и О.Бескина. Вот, например, отзыв
журнала "Искусство" об Абраме Марковиче Эфросе, блестящем знатоке мировой художественной
культуры (и в силу этого, само собою, "космополите"), к тому же имевшем несчастье позитивно
оценивать ту самую традицию "русского импрессионизма": "...этот жалкий пигмей, безродный
эстетствующий выродок, подобострастно смотревший в рот каждому иностранцу (лишь бы то был
иностранец) и жадно ловивший всякий его бред".
Защитить профессиональную репутацию крупнейших советских историков и критиков от подобного
рода выпадов оказались не в силах никакие кампании в среде добросовестных профессионалов -
вроде дискуссии "о живописности", за-теянной в Московском Союзе советских художников в 1940
году под руководством активных сезан-нистов А.Нюренберга и А.Ржезникова. Эти усилия
теоретиков и мастеров-живописцев позволяют лишь вновь и вновь констатировать: первое -
что традиции импрессионизма (как и Сезанна), вопреки усилиям официальной критики, для
художников сохраняли подлинную творческую актуальность и второе - эти творческие устремления
позиционировались как альтернатива, нередко даже как вызов официозу.
Хотя, например, Лунин, в апреле 1946 года читавший в Ленинградском Союзе советских
художников доклад "Импрессионизм и проблема картины", ни в малой мере не мыслит свой
предмет как что-то "антисоветское". То же и с Эфросом, в 1945 году выступившим в
Третьяковской галерее с докладом "Судьбы дореволюционных художественных течений в
советской живописи", в котором говорилось о "русском импрессионизме" как о "самом
крупном из предреволюционных русских течений, которое не убыло, не исчезло, а широко
сохранилось в советской живописи в разных оттенках и тенденциях"9. Чуть ниже - впрямую
о традиции СРХ: "...и сегодня еще этот импрессионизм является наиболее разветвленным и
наиболее живым течением нашей живописи".
Между тем ощутить специфический пафос, ценностные ориентиры "русского импрессионизма"
в сверхполитизированном и идеологически перенапряженном воздухе сталинского СССР было
не столь трудно. Сам же Эфрос заметил: "В "Союзе русских художников" был примат живой
жизни, ее непосредственное отражение"11. "Живая жизнь" и "действительность в ее революционном
развитии", "непосредственное отражение" и "реализм", дополняемый тем, "что возможно по логике
коммунистической гипотезы" (слова А.М.Горького из доклада на I съезде советских писателей)...
Борис Пастернак, работавший над "Доктором Живаго" в 1930,-е годы, развивает в своем романе
символическое противопоставление революционной стихии большого города и глубокой зимней
тиши приуральских лесов. Еще в 1921 году князь С.М.Волконский, оставшийся на родине после
революции, записывает для себя: "Ну что может быть прекраснее природы в нынешние дни, что
- отдохновительнее ее беспартийности (подчеркнуто мною. - AM.)?"
Имея в виду центробежный характер, определявший духовное состояние нашего общества за
десятилетия большевизма - яростную жажду "продолжения революции", с одной стороны, и
тяготение к бытию органически-природному, почвенному - с другой, нет оснований удивляться,
что "импрессионистическая" составляющая не исчезала в русском искусстве. Насколько она
сходна с французским аналогом и вполне ли заслуживает название импрессионизма - в данном
случае не слишком существенно. Отчасти, вероятно, заслуживает. Тягой к природе и ее зримым
формам, влечением к пленэру, цвету и свету, вниманием к оттенкам частной жизни субъекта,
преимущественным стремлением к лирической камерности высказывания в противовес громкой
публичной риторике... Вместе с тем это российское художественное движение предполагало
иной, чем на Западе, более демократический статус творческой личности.
Поэтому оно последовательнее обращается к деревенским пейзажам, мотивам крестьянского
быта, меньше ищет необычных ракурсов, экзотики в композициях. И оно более "реализм",
нежели "дивизионизм" или "пуантилизм". Русский художник по давней и прочной традиции
более видит себя в "картине природы", чем в изысках артистической техники. Эфрос, вне
сомнения, прав, отмечая: "Союз русских художников противопоставлял себя как реалистическая
школа мирискусничеству"13. Надо было пройти десяток лет искуса авангарда, чтобы менталитет
нашего художника изменился и он начал грезить "изобретением", а не "природой". Однако тут
советская действительность уготовила ему новое испытание. Ни в какой другой стране мира
социальная ситуация не демонстрировала творцу-инноватору так непреложно, что его
"изобретательство" грозит обернуться или, по крайней мере, сомкнуться с тотальным
насилием над согражданами и всем окружающим миром.
В СССР многие художники смогли сделать некий выбор, скорее интуитивный, чем убежденно
рациональный. Они начали заново возвращаться к природе, невымышленному быту и человеку,
своей деревенской родине - вопреки лозунгам всепобеждающего обновления, теориям
"производственного искусства" или соцреализма с его воспитанием новой породы людей.
Происходило как бы новоот-крытие художниками "русского импрессионизма" для самих себя
- целиком за стенами шумных тематических вернисажей. В подобном случае уместно сказать:
если бы его не было, его следовало бы выдумать. Вслед за В.Леняшиным, внесшим крупный
исследовательский вклад в подготовку выставки "русского импрессионизма" в ГРМ, необходимо
отдать себе отчет в том, что категория импрессионизма трудно поддается дешифровке даже в
ее исконном французском контексте, поскольку породившая ее практика изобилует противоречиями.
Что же до "русского импрессионизма", это понятие, как минимум, "оказывается целесообразным,
эвристически продуктивным применяемое как средство извлечения из художественного потока
обширного материала, теряемого при измерении неадекватными критериями".
Теперь, пожалуй, последнее, что стоило бы заметить в связи с новым рождением "русского
импрессионизма". Еще с 1900-1910-х годов начали складываться две линии, одну из которых
можно возвести к деревенским жанрам Валентина Серова, тогда как другую - к более ярким,
декоративным портретам, интерьерам, натюрмортам Константина Коровина, а затем к зрелым
жанровым произведениям и пейзажам Архипова, Грабаря, Малявина, Юона... Самым общим
свойством последних можно, пожалуй, видеть именно повышенную декоративность, которая в
сочетании с характерными мотивами деревенских застолий и праздников, ярмарочных гуляний,
сияющих дней русской весны образует некую национально-романтическую панораму народного
быта - отчасти сродни тому, что можно видеть на рубеже XIX-XX веков у целого ряда мастеров
Центральной и Восточной Европы.
Судьба этой декоративной ветви в советское время сложилась относительно благополучно.
Мажорной тональностью, праздничной цветоноснос-тью она отчасти питала становление крупной
выставочной картины, которая, вдобавок к ее "стопроцентной" тематической содержательности,
пыталась быть также и зрелищем, способным увлечь массовых посетителей художественно-пропагандистских
мероприятий. Кроме того, в этом русле возникали мастерски выполненные декоративные пейзажи-панно,
ставшие некими памятниками светлым чаяниям своего времени. Среди них лучшие работы Константина
Юона 1930-1950-х годов, знаменитый "Весенний день" Василия Бакшеева, "Обед артели" Сергея
Малютина, отдельные панорамные пейзажи Игоря Грабаря, Николая Крымо-ва, Якова Ромаса.
Кстати, такие вещи былых "союзников", значительные по размерам, интенсивные в колорите,
сочные в пластике, критика зачастую сближала со столь же масштабными и по-своему театральными
жанрами, пейзажами и натюрмортами их сверстников из "бубновых валетов" - Петра Кончаловского,
Аристарха Лентулова, Ильи Машкова; эти авторы добивались синтеза своего "сезан-низма" с
традициями русской реалистической картины рубежа XIX-XX веков. А еще позже, когда советское
искусство рубежа 1940-1950-х годов уже окончательно изнемогало под бременем парадных шедевров,
творимых коллективно-бригадным методом, портретов вождей либо мелкотравчатых анекдотов из
быта современных мещан, та же яркая художественная традиция, чудом сумевшая сохранить
живую память о передвижничестве, СРХ и "Бубновом валете" (о ней заговорили тогда как
о традиции живописности 1920-х годов), помогла возрождению пластической поэтики нашей
национальной живописи на выставках первых послеста-линских лет. Помогла молодым обратиться
к жизни русской провинции, быту и людям русской деревни, пейзажу средней и северной России.
Иногда свойства "русского импрессионизма" стремятся видеть только в "движении к свету,
краскам и воздуху", "свежести и душевной бодрости" -словом, к "отрадному" в понимании
юного Серова, писавшего своих "Девушек". "К чудным мгновеньям самозабвенной земной
благодати" обращен взор художника-импрессиониста; "смешно, - заключает В.Леняшин свой
опус об импрессионизме, - быть ветреным импрессионистом до старости, грустно - не быть
им совсем". В то же время Аркадий Пластов, к примеру, по свидетельству В.Манина, "считал,
что пленэр - это только "верхний серебристый рассеянный свет". Он признавал лишь серебристый
пленэр средней полосы России... не любил крымского освещения, яркого, контрастного. Он
призывал художников обращаться к скромной красоте пейзажей средней России и Русского Севера".
Нет оснований сомневаться: за этим суждением не только индивидуальные склонности живописца,
но и его особое отношение к содержанию творчества. Если вспомнить "Сенокос" Пластова, его
"Весну" и многие поздние деревенские жанры, надо будет признать, что щедрое цветение русской
природы, народный быт с его праздниками этот мастер любил не меньше Юона или Кустодиева.
Однако пленэрный этюд - углубленное собеседование художника наедине с натурой - Пластов,
скорее всего, считал чем-то особенным. Чем-то вроде исповеди, где в говоре листьев и трав
ему открывалось главнейшее в судьбе России, в том, чем живет и дышит эта земля сегодня.
И без этого были бы невозможны пейзажные фоны в его уникальных холстах: "Фашист пролетел",
"Жатва"...
В этом непосредственном и одновременно символическом видении натурного пейзажа Пластов
наследует Серову и Левитану, чьи традиции, подчеркнем, лишь сквозь зубы принимала советская
критика 1930-х годов. Рядом с Пластовым в проникновенной чуткости к той же традиции пленэрного
пейзажа можно поставить только Сергея Герасимова. Этому мастеру выпала совершенно выдающаяся
роль в передаче живой традиции русского реализма начала XX века новой творческой поросли
послесталинских поколений. Метод русского импрессионистического пленэра - тонкое, нервно
экспрессивное видение цвета, присущее С.Герасимову, темпераментное, полное резкой мужественной
энергии его рисование - резонировал в современности звуками безупречной душевной подлинности.
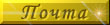
|